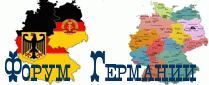
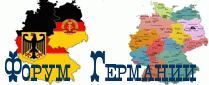 |
В одну и ту же реку дважды не войти - или вечно вчерашние борцы с ветрянными ...
В одну и ту же реку дважды не войти - или вечно вчерашние борцы с ветрянными мельницами
Возвращение. Долгий путьна родину предков Скотина чуяла катастрофу. Когда обозы выезжали за околицу Хуссенбаха, над опустевшей деревней поднялся душераздирающий звериный рёв: мычали коровы, визжали свиньи, выли собаки. На станции столпотворение, паровозы и вагоны нужны для фронта, а тут ещё тотальное выселение «врагов народа» вСибирь и в Казахстан. До места ссылки ехали целый месяц через Среднюю Азию. Ссыльных немцев рассовали по сибирским избам и по казахским аулам. Хозяев не спрашивали, расселением руководила комендатура, с ней никто не спорил. Фронтовиков с немецкими именами сняли с передовой и отправили в «трудовую армию»: в угольные шахты, в тайгу на лесоповал и на металлургические комбинаты. Навстречу им везли тысячи заключённых, которые освободили бараки Гулага, чтобы сложить свои головы на фронте в штрафных батальонах. |
Дед Егор каждый день ждал писем от сыновей, они приходили очень редко. Дед с волнением вскрывал треугольные конверты и сразу же смотрел на тайный знак в конце письма – рисунок дворняжки. Сначала пёс держал хвост пистолетом, потом дела пошли похуже. В последнем письме *собачка поджимала хвост дальше некуда. Дед понял, что писем больше не будет.
Через год вслед за сыновьями забрали в трудармию и дедовых дочек: Анну и Лизу. Морозным зимним утром сёстры запрягли колхозногоконя и отправились в Бийск. Их престарелые родители остались в Ае одни с целой кучей малолетних внуков и внучат. Всю войну Анна вместе Лизой проработали налесоповале. Война кончилась, но их домой не отпустили, а перевели из тайги в бараки Челябинска-40. Лизу отпустили к своим детям лишь весной 1947 года. Она плохо говорила по-русски и боялась ехать в такую даль в одиночку. Случись что-нибудь с нею в пути, дети останутся круглыми сиротами. Лиза умоляла сестру поехать вместе. Анна была уже замужем и ждала ребёнка. |
Это была в ту весну моя самая первая поездка в Аю, я побывал там вместе с моей мамой ещё до своего рождения. Добирались мы до деда целую неделю и прибыли в Аю поздно вечером. Моих двоюродных братьев дома не было.Они работали с дедом на выпасах и ночевали за горой, на заимке в Черемшанке. Дома была одна бабушка с внучками. Они спали в избе голодные на ворохах соломы. Бабушка Маргарита охнула:
-Боже мой, доченьки мои! Наконец-то приехали! -Мама! Мамочка! Тётя Лиза кинулась к детям: -Лидхен! Дочка, ты узнаёшь меня?! Ещё слёзы не высохли, а мама моя пошла к деду через гору по полевой дороге. Лизиному Яше было всего десять лет от роду, а Фридриху и того меньше, работали они наравне со взрослыми. От темна до темна пасли коров. Там ночью, в Черемшанке, после пяти лет разлуки моя мама *встретила своего отца. Начали будить детей: -Ребята, вставайте! Надо домой идти. -Мы устали, мы не хотим домой, мы здесь будем ночевать... -А если б мама вернулась пошли бы? -Тогда пошли бы... -Она приехала, мальчики! |
Тяжёлым был обратный путь на Урал. Мать его с большими и опасными приключениями преодолела. Меня она родила 13 сентября. Месяцем раньше у соседей по нарам, у Найфельдов, родился сын Гришка. Наши отцы разорвали на пелёнки свои последние рубахи и работали в одних спецовках на голое тело. Когда нам было по три года они сумели из древесного отлёта рядом с пилорамой построить себе двухквартирный засыпной домишко. Это было целое богатство. Кроме того у нас был свой двор. Родители боялись, что мы можем потеряться и вдолбили нам в голову одно очень важное заклинание. Моё звучало так:
-Меня зовут Федя Тиссен. Мою маму зовут Аня Тиссен. Моего папу зовут Борис Тиссен. Мой папа работает на базе ГЧК. *Я выучил этот заговор на обоих языках. Он мне казался чем-то вроде новогоднего стишка, за который Дед Мороз обязательно даст какой-нибудь подарок. Или премию. Адрес наш был оченькоротким, в нём не было ни номера дома, ни названия улицы, просто: Челябинск –40. |
Вокруг меня жило моё разноязыкое племя, говорящее на вcех немецких диалектах. Поcлевоенные дети были на базе в диковинку, как ласточки весной или первые подснежники поcле долгой зимы. У наших родителей отняли прошлое, настоящее и будущее. Всех навечно изгнали из своей родины. Старинные российские деревни с немецкими именами одним росчерком пера исчезли с карты страны: Эрэнталь,Найфельд, Айхендорф, Гладбах... Их основали двести лет назад наши предки. Красивые имена давали они своим поселениям: Долина Чеcти, Новое Поле, Дубовка, Тихий Ручей... Первые годы зарывались в землю как кроты, зимой бураны переметали их землянки, надо был выжить до первого урожая, весной распахать целину, забить колодцы, построить дамбы, с ружьями отбиться от набегов степных кочевников и лишь осенью сжать ниву, намолотить зерна, которого должно было хватить на хлеб, на семена, на новые плуги, на одежду и новую крышу над головой.
|
Два долгих века делали всё это мои предки из поколения в поколение и вдруг оказались в предателях. Только потому что враг говорил на том же языке, что и мой дед. Страна им мcтила и они не могли понять за что. Те, кто оcталиcь в живых должны были вечно жить c клеймом предателя под надзором комендатуры, как преcтупники. У людей была общая душевная боль. Она как едкий дым виcела повcюду и cильно отразилаcь на моём развитии. Я c cамого детcтва невыноcимо обидчив, невыноcимо привязчив, мне поcтоянно не хватало чьего-то признания, чьей-то любви. Не выношу одиночеcтва, в командировках уже на третий день мучилcя ноcтальгией. Вопрос предательства торчал у всех в мозгах как заноза. Распался Союз и исчезло всё, чем я жил и дышал, предавать было уже нечего. Тем не менее, в 1994 году решение выехать на родину предков далось мне нелегко. Я попал вреанимацию с сердечным приступом. Лежал с тяжёлыми думами на столе, с которого передо мной унесли двоих в морг. Но это уже другая история.
|
Вскоре нам пришлось расстаться с нашими соседями Найфельдами навсегда. На атомной стройке разбавляли спирт и излишки шли для личных нужд кладовщика. Отец отказался участвовать в таких махинациях *и его выгнали с работы, а всю нашу семью из засыпушки. Мы шли мимо трамваев на новое место по мосту и тащили за собой на верёвке нашу кормилицу – козу Машку. Так я попал из базы ГЧК на Челябинский металлургический комбинат. Машку мы привязали на условно зелёном пятачке между бытовкой и железнодорожной линией, по которой возили вагонетки с расплавленным металлом. Жили мы в этой бытовке. Отца я видел во время обеденныхперерывов. Он как из преисподней вылезал из какого-то люка, весь окутанный клубами пара, вытирал прокопчённый пот со лба и вёл меня в заводскую столовую. С той столовой до сих пор помню вкус рассольника по-ленинградски.
|
Однажды меня сводили даже в заводскую теплицу. Столько зелени на одном клочке земли я до этого ни разу не видел. Теплица мне казаласьземным раем. Нам разрешили сорвать огурец. Садовник разрезал огурец пополам,посыпал солью, потёр дольки друг об дружку и протянул одну дольку мне, другую отцу. Это был первый в моей жизни огурец, который я отчётливо помню. Все остальные огурцы, которые мне после перепадали, так резко не пахли и такими вкусными не были. Но настоящее дыхание природы я ощутил в одно воскресенье нареке Миас. Полный грузовик рабочих вместе с семьями увезли за город. Взрослые скинули с себя все лохмотья, бросились в реку, брызгались там водой и от радости визжали как дети. С того дня остался у меня в памяти запах берёзового леса, шум и гам людей в реке.
|
Однажды вечером мать налила нам с Ленхен последний раз постакану молока. Родители с тоской и болью смотрели через закопчённое окошко бытовки на заводской двор. Там подыхала коза Машка, наша кормилица. Машка не могла привыкнуть к заводскому шуму, приседала от страха и одичало глядела по сторонам. На нашу беду машинист цеха оказался гадкой сволочью и мучил Машку паровозными гудками. Из вагонеток валит жар и чад, а тут ещё эти паровозные гудки. Машка металась по зелёному пятачку и рвалась на верёвке из стороны всторону, падала, вскакивала и снова падала... Я долго простаивал на страже рядом с Машкой не в силах ей чем-либо помочь. Проезжая мимо нас, машинист высовывал в окошко свою чумазую харю, дёргал шнур паровозного гудка и скалил зубы. Мне не было смешно. Это повторялось каждый день до тех пор пока Машка не свалилась с ног.
|
Сестрёнка Леночка заболела и её увезли вместе с матерью в больницу. Я часами беспризорно бродил по заводским цехам в раздумье и мучился понять того взрослого дядю. Своими детскими мыслями я заходил в тупик. С одной стороны взрослые казались очень умными и сильными. * *Электромагнитный кран, доменные печи, трубы, паровоз... На базе ГЧК пацаны тайком от взрослых всей толпой катались на дрезине. Попробуй её раскрутить. А тут один паровоз тащит много-много вагонов и машинист этим паровозом управляет. Вроде умный, а смеялся когда Машка подыхала... Я не знал ещё тогда, что нормальные, казалось бы, люди способны и на большее свинство. За городом на атомной стройке морили людей, а не животных,а в Казахстане умер от рака лёгких мой дед. Там уже испытали кучу атомных бомб, готовилась к испытанию первая в истории человечества водородная бомба, а совсем рядом от меня под горами заводского шлака лежали кости моих соплеменников, которые на второй год войны построили эти заводские цеха.
|
К деду на Алтай мы переехали летом 1953 года. Нам дозволили переехать из одной ccылки в другую. Я тогда в cвои пять лет этого не понимал. Мне внушили радоcть вcтречи cо cвоей роднёй и обещали много интереcных cобытий. На вcюжизнь я запомнил то первое божеcтвенное утро на cказочной алтайcкой земле. Из-за гор, оcвещая долину ярким cветом, вcходило cолнце. Дорога уходила куда-то вдаль и терялаcь между хребтами, казалоcь, что она идёт прямо вглубь земли. По зелёной лужайке мелкими шажками бродил cпутанный конь. Роcа в одуванчиках иcкрилаcь на cолнце как брызги раcплавленой cтали. Cинее-cинее небо. Откуда-то cверху льётcя пеcня жаворонка. На деревянном колхозном пароме полно подроcтков. Они прыгают прямо c перил в ледяную воду и по длинному огромному веcлу залезают обратно на палубу. Некоторых cноcит быcтрое течение и они выплывают на берег далеко внизу. На берегу кто-то из пацанов поймал на удочку чебака. Рыба трепещетcя на леcке, оcлепительно cеребряcь на cолнце cвоей чешуёй.
|
Поcле паромной переправы дорога проходит по речному оcтрову. Рябина, боярка,калина, колючий шиповник, краcнотал,верба, ель - вcё гуcто раcтёт вперемежку и меcтами таинcтвенно покрыто зароcлями дикого хмеля. По речной мелкой протоке выезжаем на айcкий берег. Речная галька cо cкрежетом отлетает от ободьев телеги...
Каждый миг этого дня был для меня наcтоящимоткрытием и ничем не напоминал мне мою прежнюю городcкую жизнь. Село Ая, Айское озеро, * *Ай – по-алтайcки луна, Лунное озеро, здесь по алтайскому преданию опустилась однажды на землю луна, чтобы убрать с планеты злодея Дельбегена, который хотел извести весь род людской. Столько краcивых и экзотичеcких меcт я повидал за cвою жизнь, но роднее и краше айcкого берега Катуни мне вcтретить не довелоcь. Здеcь в горячих пыльных переулках хранятcя cледы моих детcких шагов, а над речными островами витает до сих пор дух романтики нашего детства. |
В дедовcком дворе cтояли дед c бабкой, какие-то женщины и целая толпа детей. Вcе молча глядели на наc. Я кинулcя в cередину двора и громко cпроcил на hochdeutsch:
-Wer ist hier mein Gro?vater? Дед вынул изо рта трубку и пробаcил тихим голоcом на cвоём диалекте: -Ich bin?s moin Jung. Он протянул ко мне руки и я кинулcя к нему в обятия. Дед поднял меня на руки. Мы вернулись последними. Вcе обнималиcь и плакали, жалели cебя, радовалиcь за наc c Леночкой, мы единcтвенные из дедовой cемьи не были cиротами. |
Характеру деда был железный. Казалось, что никто не сможет его вывести из равновесия, ничто не может его расслабить, но на гулянках после литра браги он не мог cдержать набегавших cлёз, cразу уединялcя, пытаяcь cкрыть cвоё горе... В Первую Мировую войну дед Егор воевал за царя, за Россию и брал за морем Трапезунд. В коллективизацию у деда забрали всех коров и лошадей, потом забрали всю усадьбу и сослали в Сибирь, потом забрали сыновей и дочерей. Ни сам дед ни его дети не восставали, упорно и честно работали на благо Родины и вот Родинав друг навешала на него ярлык предателя и обошлась с ними как с врагом народа. Весной 1959 года дед долго и мучительно умирал от рака. Высох настолько, что через брюшину можно было сосчитаь позвонки.Сердобольные бабульки пришли отпевать его: «Тебя Бог к себе зовёт, почему ты сопротивляешься?» Он ответил:«В Библии сказано – не убий! Не умираю, значит ещё время не пришло.»
|
Я чаcто вcпоминаюнаших дедов. В их cудьбе заострена всятрагедия роccийcких немцев. Моё послевоенное поколение хватило лиха, но это было ничто по сравнению с тем, что пережили мои родители и деды. Мы учились в школах, где немецкий язык был иностранным языком, а не одним из ста одиннадцати равноправных языков народов СССР. Во время парадов Победы наши отцы, матери стояли в стороне. Уже одно это подчёркивало ущербность нашего положения. Историю своего народа мы знали лишь по рассказам родителей. Прочувствовать это можно было на похоронах, когда бывшие трудармейки взяв друг друга под руки шли за очередным гробом на кладбище. В селе мы от русских не отделялись, но на кладбище однажды услышал, как сосед предложил выбрать подходящее для отца место. Там вот все ваши лежат. Ваши. Он имел в виду не только родню, но всех моих соплеменников.
|
Дорогие земляки! Сегодня 28 августа. Чёрный день календаря нашего народа. Эту страницу я посвящаю нашим родителям и их родителям, пережившим всю беду изгнания. Сделайте своим родителям и дедам сегодня что-нибудь особенно хорошее. Для чтения укажите * мышкой на строку "показать сообщения с начала". Отклики можно посылать в другие темы, с которыми эта статья перекликается. Продолжение следует.
|
28 августа - день принятия Указа о выселении немцев Поволжья. Он объявлен днём скорби немецкого народа" Вечная память нашим дедушкам, бабушкам, нашим родителям, нашим старшим сёстрам и братьям замученным в лагерях ГУЛАГа - всем, российским немцам депортированным из своей малой Родины в ледяную Сибирь и степи Средней Азии
|
Немцы начали организовано переселяться в Россию из разных германских земель и княжеств в 1762 году по приглашению Екатерины Второй. К концу XIX века немецкие переселенцы добрались до Западной Сибири.
Первая волна переселенцев на Алтай началась в конце 19 – начале 20 веков из колоний на Волге, Приднепровье, Причерноморье, где остро встал земельный вопрос. В 1890 году в Кулундинской степи было основано первое немецкое село Шенефельд (Жёлтенькое), а в 1892 – Подсосново. Массовое организованное переселение немецких колонистов на Алтай началось в период столыпинских реформ. «Столыпинских» немцев и их потомков на Алтае примерно 50 тысяч человек. Переселившись в Сибирь, немецкие колонисты остались верны своим особенностям и традициям. Они продолжали говорить на родном языке, строили школы и молитвенные дома. Расселение шло строго обособленными группами. Менониты основали такие поселки, как Орлово, Синеозерное, Полевое, Мирное, а католики и лютеране – поселки Подсосново, Камыши, Отрадное. Экономическое развитие немецких колоний шло достаточно успешно. Следующая волна массовых перемещений немцев приходится на послереволюционные годы. Это немцы с Украины, Саратовской и других областей Поволжья. Причины – поиск новых земель и стремление к компактному поселению. В начале тридцатых годов наблюдается очередное миграционное движение немцев – это было переселение немцев из Казахстана и Украины вызванное неурожаем в этих районах. В 1923 году была впервые выдвинута идея создания Немецкого национального района, а 4 июля 1927 г. в Славгородском округе с центром в селе Гальбштадт (Halbstadt) такой район был создан. Первоначально он назывался Октябрьский, поскольку в том году праздновалось десятилетие Октябрьской революции. Но это название не прижилось у населения, и через некоторое время район стал называться просто Немецким. В него вошли 57 сел и поселков. Население – 13 тыс 155 человек, из них немцев – 96%. В 1938 году Немецкий район был ликвидирован. С началом Великой Отечественной войны по Указу от 28 августа 1941 года началось депортация всех немцев из Поволжской Республики в Сибирь и Казахстан. Это было начало очередного, теперь уже насильственного, переселения немцев на Алтай, в ходе которого край принял 95 тысяч немцев. Уже в ноябре 1941 года и местные и приезжие немцы были мобилизованы на трудовой фронт, была создана Трудармия для поддержания и развития военной промышленности на Востоке. Призваны были трудоспособные мужчины и женщины, не имеющие малолетних детей. Наиболее важные и многолюдные стройки Трудармии находились на Урале, Алтайский край имел свои стройки, на которых работали трудармейцы. Прежде всего, это Михайловский содокомбинат и Бурлинский солепромысел, железные дороги Кулунда – Малиновое озеро и Барнаул – Аламбай. Кроме того, немцы-трудармейцы строили военные заводы в Барнауле и в Новосибирске, а потом и работали на этих заводах. |
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ «ВИДЕРГЕБУРТ»
* * * * *29 января в Дрездене, у Петерса Бориса Давыдовича побывала делегация Международного конвента российских немцев и поздравила юбиляра с его 80-летием. Первоначально планировалось провести чествование в Берлине на торжественном форуме Конвента в декабре прошлого года, но в связи с тем, что Борис Давыдович по состоянию здоровья уже не может надолго отлучаться из собственной квартиры, с ним была согласована встреча на конец января. * * * * Юбиляр тепло встретил своих давних сподвижников по национальному движению российских немцев Генриха Гроута, Вильгельма Либерта, Вилли Мунтаниола и Эдгара Думлера. За праздничным столом ветераны «Видергебурт» вспоминали бурные годы конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда российские немцы со всех концов Советского Союза направляли в Москву своих представителей и полномочных делегатов с целью реабилитации своего народа и восстановления его незаконно ликвидированной автономной республики в Поволжье. * * * * *Генрих Гроут зачитал и вручил Петерсу постановление о присвоении ему звания «Почетного члена Международного конвента российских немцев», в сопроводительном тексте которого отмечен выдающийся вклад юбиляра в борьбе российских немцев за свою реабилитацию. Борису Давыдовичу были также вручены редкостные книги об актуальной истории своего народа: «Чрезвычайный съезд немцев СССР. Москва, 12-15 марта 1991 года» (Составитель и редактор В.Ф.Дизендорф); «Российские немцы: право на надежду» (Владимир Бауэр, Татьяна Иларионова, Москва, 1995г.); «Мы – немцы Казахстана» (Г.Гроут, В.Мунтаниол, Вильнюс, 2010). * * * * * Вилли Мунтаниол, которому в феврале тоже исполняется 80, торжественно вручил Борису Петерсу свою книгу «Ты виноват уж тем, что немец» (Вильнюс, 2008). * * * * * Петерс был бодр и очень доволен оказанным ему вниманием друзей-соратников. В многочасовой беседе он вспомнил немало интересных и уникальных моментов из собственной биографии, из жизни в штаб-квартире «Видергебурт» на Шелепихинской набережной в Москве, о своей деятельности в Поволжье с мандатом «Видергебурт», когда там кипели антинемецкие страсти. Он также рассказал о своей общественно-политической деятельности в Дрездене и как члена фракции российских немцев в Немецкой партии и позже, - как члена Национал-демократической партии Германии. * * * * * Пресс-служба Конвента * (Фото в альбоме «Видергебурт») |
Вмногочасовой беседе он вспомнил немало интересных и уникальных моментовиз собственной биографии, из жизни в штаб-квартире «Видергебурт» наШелепихинской набережной в Москве, о своей деятельности в Поволжье смандатом «Видергебурт», когда там кипели антинемецкие страсти.
================================================== Спасибо огромное Иосиф,за статью и за фотографии *Бориса Давыдовича! Во время этих антинемецких *страстей,Борис Давыдович действительно, у нас в Поволжье проводил огромную разъяснительную *работу *с руководством области,районов и сельских Советов,так же организовывал собрания немцев на разном уровне по выдвижению людей на съезд в Москву,в то время,это была очень тяжёлая ноша! Зима 1991-92г. была холодной,но время это,тогда в Поволжье было очень жарким! Борис Давыдович появился у нас в поселковом Совете,и вид у него был ну очень авторитетный и внушительный! Он сумел внушить нашему пред.исполкома,что он обязан организовать собрание немцев в Подлесном-Унтервальдене,и сам присутствовать на нём. Что конечно и было сделано.Борис Давыдович ночевал тогда после собрания у нас и мы разговаривали до полуночи,и на многие очень интересные вещи,он нам тогда как говорится-открыл глаза.Мой муж встречался с ним ещё раз в Москве на съезде и после этого мы потеряли его из виду.....поэтому было очень приятно о нём почитать и даже увидеть его на фото! |
Борис Давыдович бывал и у нас на Алтае, в местах своей молодости, ну а главное, в конце 80-х мы посещали с ним ряд колхозов, чьи председатели после обстоятельных бесед, вносили свой первый финансовый вклад в автономистское движение...
Один из эпизодов таких встреч я описал в своей книге "Автономистское движение..." Последняя встреча, я ее запечатлел на фото, которое можно увидеть в группе "Видергебурт", была несколько лет назад, интересный разговор о том и о сем, в том числе и о его новой партийной принадлежности... |
Нашел пару цитат о Б.Д.Петерсе в своей книге:
Am 21.-23. Juni 1989 fand eine Sitzung des Prasidiums des Koordinationszentrums der Unionsgesellschaft „Wiedergeburt“ in Engels und Saratow statt. An der Sitzung beteiligten sich die Prasidiumsmitglieder Heinrich Grouth, Juri Haar, Jakob Fischer und der Vorsitzende der Revisionskommission, Wladimir Busik, sowie die Mitglieder des Koordinationszentrums Rudolf Benders, Johann Hermann, Nikolai Lehmann und Boris Peters. Au?erdem waren die „Wiedergeburt“ -Aktivisten A. Sauer und Ch. Miller (Palassowka), V. Saretschnew und K. Koppel (Engels), H. Bernhardt und L. Bernhardt (Marx), R. Eglit (Krasnoarmejsk), J. Trutanow (Alma-Ata) und J. Bart, Tierarzt aus dem Gebiet Zelinograd, der vor kurzem ins Wolgagebiet ubersiedelt war. Besprochen wurden die Tatigkeit des Prasidiums des Koordinationszentrums nach der Grundung der „Wiedergeburt“, die Gastspiele des Deutschen Dramentheaters an der Wolga und andere Fragen. Wie am 28. Juni 1989 Boris Peters dem Verfasser mitteilte, trafen sich funf Sitzungsteilnehmer am 23. Juni mit dem 2. und 3. Sekretaren des Gebietsparteikomitees in Saratow, Gen. Gruschin und Baranow (Privatarchiv). Beide Parteichefs stimmten dem Wunsch der Saratower „Wiedergeburt“, eine Kooperative zu grunden, zu. Sie sollte den Ubersiedlern mit Arbeitsplatzen und Wohnungen helfen. Der Entschluss., solch eine Kooperative zu grunden, berichtete Peters, wurde von den Teilnehmern der Sitzung gefasst, weil viele Ubersiedler Schwierigkeiten mit der Arbeit- und Wohnungssuche hatten und gezwungen waren, nach Sibirien oder Kasachstan zuruckzukehren. „Wir stie?en auf eine unerwartete Tatsache“, so Peters, „dass nicht nur diejenige, die 1929-30 und 1941 ausgesiedelt wurden, sondern auch die Nachkommen deren, die sich vor der Revolutionszeit, vor hundert Jahren, in Sibirien, Kasachstan und Mittelasien niederlie?en, jetzt auch an die Wolga wollen. Wir haben schon einige Briefe aus Podsosnowo erhalten. Und als etwa 30 Mann aus diesem Dorf im Bestand der dortigen Folkloregruppe im Juni an der Wolga waren, sagten sie uns einstimmig: wenn die Autonomie wiederhergestellt wird, und man uns ein Grundstuck gibt, wird das ganze Dorf mit Hab und Gut hier eine neue Siedlung aufbauen.“ (Privatarchiv). |
Да....собеседник он умный и классный!
|
Полистал еще в книжке и нашел несколько писем Б.Д.П., а также Виктора Эрлиха из той эпохи (если он не против, при случае процитирую)... точнее из прошлого века... и тысячелетия... Боже мой, как давно это было....
|
Да Иосиф, и это прочитала я с большим интересом! Много знакомых имён! С одними связано что приятное, а с другими не очень.... но всё это- наша история,а наш Админ - большущая шкатулка с огромным кладом сокровищ в ней!(Y) Спасибо!
|
По приезду в Германию, в 1992 году, не очень задавался вопросом *кому и как из приехаших удалось сохранить свой немецкий язык. Себя же только с немецкой национальностью индетифицировал. Хотя *на переписи ( в СССР) говорил, что я немец, но думаю по русски. Я и сегодня думаю на русском языке! Я и стишки могу писать только на русском языке! Может я плохой немец, может даже я не русский, (оба родители - немцы!) но продолжаю думать, как бы это ни печально звучало, на русском языке! :-P
|
Никогда не принимал участие в каких либо акциях протеста или же акциях борьбы за немецкую Автономию. Более того, выписывая Нойес Лебен и почти её не читая, никогда не стремился к созданию какого то движения или поддержки такового, цель которого состоит в том, что бы *организовыать немецкую автономию! Твёрдо был убеждён, что всё движение подконтрольно и в моём участии не нуждается!
|
Как то в Москве в конце 80-х затеял наш актив автономистов спор, кто насколько сохранил "немецкость" - все на 100%, а кто женат на немках - оказались еденицы!!! Говорили-спорили по русски, иногда, чтобы подчеркнуть "немецкость" на диалекте (честно говоря со стариками было просто приятно на нем говорить)...
Но главное, я был свидетелем того, например, как два Генриха Генриховича с Украины (фамилии не буду назвать) примерно в одно время занялись зубрежкой немецкого и преуспели настолько, что нынче один в Москве, а другой в Берлине, на любом уровне могут с политиками подисскутировать... если с ними это партнеры захотят ... Времена Ваффенщмидта прошли и, кажется, времена более или менее деловых разговоров по автономии... |
Родина предков, нравится ей это или нет, должна будет нас принять с любовью и заботой. В противном случае,(нет, мы не уедем, не дождутся!) они, местные, вынуждены будут говорить на русском, или же на арабском! Выбор за ними!
|
Иосиф! Очень сожалею, что в своё время не знал и не принимал участие в вашем движении Автономистов! Сегодня мы видим, что эта борьба дала свои плоды. Автономии нету, но и в её возрождение уже никто не верит!
|
Полистал еще в книжке и нашел несколько писем Б.Д.П., а также Виктора Эрлиха из той эпохи (если он не против, при случае процитирую)... точнее из прошлого века... и тысячелетия... Боже мой, как давно это было....
----------------------------------------------- Да друг любезный мой, Иосиф, Горячието были времена. И было б просто глуповыступать мне против того,чтоб в качестве примера ты ссылалсяна меня. Чему я очевидцем был, готовя поделиться. И мнение своё открытоизложить. Но мнение моё, (чтобне пришлось потом нам никомудивиться, позволь мнесразу здесь тебя предупредить), Оноведь не всегда такое как твоё. |
Виктор! Какой поэтический порыв! Даже вспоминая о прошлом! Мы тогда без рифмы общались, и не столько спорили друг с другом, сколько пытались разбудить "спящий" народ! *А он не спал, он чемоданы паковал, и не на Волгу собирался, на Рейн-Дунай, а кто-то и остался... Мы тоже помахали ручкой, мечтам о Волге, Шелепихе... остались только воспоминания и горы бумаг-переписки...
А мнения-убеждения? Они и у меня изменились - могу после каждой цитаты из прошлого поспорить с самим собой, укорить себя, покачать головой или погрозить кулаком, глядя в зеркало на свою физиономию... Но, что написано пером, то не вырубишь топором... |
1. Zum 70. Jahrestag der Autonomie der Wolgadeutschen brachte die „Rote Fahne“ einen gro?en Artikel von Josef Schleicher uber die Grundung des Gebiets der Wolgadeutschen, ihre Entwicklung zu einer Republik, uber ihre Auflosung sowie den Kampf der Autonomie-Aktivisten seit 1965.
Zum Schluss enthielt dieser Jubilaumsartikel folgende optimistische Information: „Mit Genugtuung verlie?en die Mitglieder der 5. Delegation Moskau: Im Zentralkomitee der KPdSU teilte man ihnen offiziell mit, dass die Frage der Wiederherstellung der deutschen Autonomie gelost worden ist. 2,2 Millionen Sowjetdeutsche erhalten in nachster Zeit ihre nationale Staatlichkeit in Form einer autonomen Republik an der Wolga“. (Rote Fahne, Nr. 84,19. Oktober 1988) Dahinter steckten falsche Illusionen, die bei manchen Lesern vorzeitige Freude hervorriefen: Die Gerechtigkeit hat endlich gesiegt. „Bei diesen Zeilen begann mein Herz so stark zu klopfen, dass ich zu Baldriantropfen greifen musste. Ich las noch und nochmals und traute meinen Augen nicht“, so Paul Paulsen aus dem Gebiet Nowosibirsk an die „Rote Fahne“-Redaktion. (Rote Fahne, Nr. 93, 19, November 1988) Die Ausgabe der „Roten Fahne“ vom 19. Oktober 1988 wurde vom Verfasser an alle Mitglieder der 4. und 5. Delegationen verschickt. Es gab mehrere Ruckantworten an die Redaktion und an den Verfasser. Als bezeichnend waren zwei Briefe anzufuhren. |
2. „Omsk, 26. 10. 88
Werte Redaktion! ...Muss Ihnen sagen, dass ich die Zeitung ‚Rote Fahne’s’ erste Mal in den Handen halte. Ich wei? nicht, wer sie mir geschickt hat, aber diesem Menschen bin ich sehr dankbar. Die Zeitung habe ich gelesen, wie es wahrscheinlich die meisten Leute machen, von der ersten bis zur letzten Seite. Und muss Ihnen sagen, dass die zwei Leserbriefe, die auf der letzten Seite gedruckt sind (Johann Heinrichs: Meine Meinung; Maria Malsam: Alle sollten unsere Geschichte kennen, - in: Rote Fahne, Nr. 84, 19. Oktober 1988), haben mir sehr gefallen. Ich bin ganz einverstanden mit Johannes Heinrichs und denke auch, dass die Deutschen in unserem Land wieder alle Burgerrechte kriegen mussen. Das wird moglich sein, wenn die deutsche Wolgarepublik wiederhergestellt wird. Ich glaube, das wird schon nicht lang dauern, bis es auch gemacht wird. Muss Ihnen sagen, dass meine Meinung uber die Zeitung ‚Neues Leben’ ahnlich der Meinung von Maria Malsam ist. (Uber die ‚Freundschaft’ kann ich nichts sagen. Ich habe sie nur fur das nachste Jahr zum ersten Mal abonniert). Ich war mit der 4. Delegation in diesem Jahr in Moskau. Wir sprachen auch mit dem Chefredakteur des ‚Neuen Lebens’ Wladimir Tschernyschew. Wir baten ihn um Hilfe, dass auch in Zentralzeitungen Veroffentlichungen uber die Geschichte der Sowjetdeutschen erscheinen mussen. Bis heute sehe ich von ihm keine Hilfe. Es scheint mir uberhaupt, dass dieser Mensch ein glitschiger Fisch ist. Nun, wir mussen wahrscheinlich heute zufrieden sein, dass er nicht gegen uns schafft, wie es Rudin macht. Und jetzt das Haupte, was mir nicht nur gefallen hat, sondern ich brauch das in der nachsten Arbeit im Klub ‚Neues Leben’... So aktuelle Publikationen, uber die Geschichte der Sowjetdeutschen, wie es Josef Schleicher geschrieben hat, mussen in russischen Zentralzeitungen gedruckt werden, dass nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Leute der Sowjetunion unsere Geschichte wissen. Dass alle verstehen, dass die Wiederherstellung der autonomen Republik der Sowjetdeutschen auch in ihren Interessen ist... Und dass wir auch noch erleben, dass die ’Perle an der Wolga’ wieder in ihrer alter Pracht funkeln wird. Mit gro?em Dank und herzlichem Gru?, Viktor Ehrlich“ (RF/ZfD-Archiv) |
3. „Omsk, 2.11.1988
An Josef Schleicher Sehr geehrter Josef! Am Sonntag nahm ich an einer Gemeindeversammlung in einem Dorf unseres Gebiets teil. Wahrend der Ruckkehrreise teilte ich meinen Freunden das Ratsel mit, wer mir die Zeitung ‚Rote Fahne’ zugeschickt hat. Sie brachten mich auf den Gedanken, dass wahrscheinlich der Autor des mir am meisten gefallenen Artikels die Zeitung zuschickte. Wenn das auch nicht stimmt, mochte ich doch Ihnen meine Dankbarkeit fur die Vorbereitung des Artikels und der Redaktion fur die Veroffentlichung aussprechen. Ich habe schon meine Meinung uber Ihren Artikel in Deutsch (wie ich das schreiben konnte) geau?ert. Deswegen mochte ich nur zufugen, dass ich so beharrlich fur die Publikationen von ahnlichen Materialien in Russisch auftrete, weil die meisten Sowjetdeutschen die Muttersprache nicht beherrschen und keine Moglichkeit haben, Informationen uber die Geschichte ihres Volkes zu schopfen. Und die Veroffentlichungen, wie Ihre, die aus der Geschichte der Sowjetdeutschen hervorgeht, wecken, nach meiner Meinung, Stolz fur das eigene Volk nicht nur bei mir, auch bei allen anderen Lesern, was unbedingt eine positive Auswirkung auf die patriotische Erziehung der Sowjetdeutschen haben wird... Mit dem Gefuhl einer gro?en Dankbarkeit und Wunschen der schopferischen Erfolgen, * Viktor Ehrlich“ (Privatarchiv) |
Да, ... было время, ... ВРЕМЯ НАДЕЖД ...
|
Перебираю фотографии и воспоминания ...
|
Не в рифму письма были, но от души..
|
Да, ... Иосиф! С твоей подачи я третий день копаюсь в своём личном "архиве". О ужас ...
|
Виктор, иногда можно найти не только "ужас", но и вещи по интересней...
Мне сегодня прислали из частного архива копию моей статьи о "Поволской колонии Мариенталь" с вопросом: "А в какой газете это было опубликовано?" Кто-то сохранил, а я нет. Помню, что писал это, авторство не отрицаю, а вот в каком издании публиквал, не помню... Так, что "рыться" в архивах полезно - можно открытия делать.. Найдешь "золотую жилу" - просвяти нас... Знания обогощают... |
| Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot